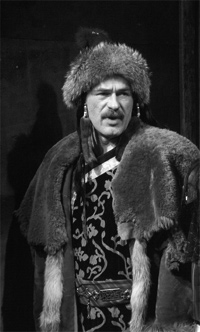|
Древо спектаклей
«Экран и сцена»
Летняя зима.
Нынче спектакли похожи на бабочек — они переживают яркое рождение, недолгую жизнь и скорую, незаметную смерть. Театральный сезон, приходящийся по преимуществу на зимние месяцы, цветет и пахнет как экзотический ботанический сад, где удивительные насекомые и цветы на мгновение поражают окраской крыльев и лепестков.
Театры часто заявляют по шесть-семь новых названий в год, а если прибавить к этому количеству премьеры на малых сценах и в филиалах, то можно насчитать до десяти новых названий, возникающих в репертуаре одного театра каждый сезон. По Москве — сотни. Радзинский и Пресняковы, Чейз и Кауард, Гоголь и Грибоедов, Моэм и Пиранделло — каких только видов и подвидов нет в этом пестром театральном хороводе. Фестивали сменяют фестивали, премии вручаются одна за другой, мировые премьеры следуют за лабораторными работами и наоборот. Во всем — буйство театральной природы.
Так стремительно северное лето, когда живому организму надо любым способом пробиться к недолгому солнцу — хоть на миг, хоть на два, расцвести, разбросать споры и увянуть. Перед зрителем теснятся премьеры — то, что не успел посмотреть в этом сезоне, в следующем уже сойдет со сцены. Театр кажется переполненным персонажами трамваем. Строит новое здание Олег Табаков, строит театральный квартал Иосиф Райхельгауз, то и дело возникают «проекты», театральная афиша постоянно прирастает новыми именами, и даже «каменный цветок» театра Анатолия Васильева «пророс» несколькими театральными студиями его учеников (наконец-то и они увидели солнечный свет рампы). И каждый год «Маска» собирает все мельчающий урожай театральных плодов.
Для зрителей спектакли остаются в памяти цветными картинками на цветном фоне, для специалистов — гербарием сухих и ломких программок.
Будет ли из всего этого видимого изобилия «культурный перегной» — покажет время. Иногда кажется, что все театральные силы уходят на постоянное и бесконечное умножение, на разрастание вширь. Театр перестал быть многолетним. Он стал измеряться короткими отрезками удач и неудач, и те, и другие бесследно отцветают, не создавая перспективы времени.
Сейчас часто (реже, чем раньше) говорят — «нет сюжета времени». Не совсем так — сюжет есть, самого времени нет. Оно стало таким коротким, что сюжет не успевает быть разыгранным и прожитым. Театр успевает только назвать, поименовать сюжеты — «Отелло», «Власть тьмы» или «На всякого мудреца довольно простоты». Сюжет не успевает пустить корни и вырасти — уже приходит следующее театральное «лето», и радует новыми театральными цветами. Театральная жизнь становится похожа на крошечную планету Маленького Принца, на которой он мог наблюдать один и тот же закат сорок три раза, просто переставляя стул с места на место.
Каждый театральный день гонит время вперед. Кажется, что старые спектакли — история, более или менее памятная, кажется, что ушедшее время — погибший материк, от которого остались руины тех спектаклей, что по нелепой случайности задержались в репертуаре. Но старые спектакли идут и сегодня. Их названия не сразу различишь в афише и удивишься тому, сколько лет прошло. И тогда становится понятно, что они — не руины, а те самые баобабы из сказки Сент-Экзюпери, которые прорастают корнями внутрь земли. Они цепляются за пыльные доски подмостков просто потому, что они живы. Они прирастают новыми смыслами, как новыми побегами, и уже новые птицы располагаются в их кроне.
Времена меняют спектакли, немудрено, что десятки прошедших лет перевесили многие вывески — сегодня две старые сказки «Малыш и Карлсон» в театре Сатиры и «Вчера наступило внезапно» в театре ОКОЛО отчасти поменялись ролями. Вечно-детский «Карлсон» оказался неожиданно взрослым спектаклем, а «Вини-Пух» Юрия Погребничко, поставленный двадцать лет назад как мрачная точка в конце тоскливого и безысходного времени, приобрел юношескую смешливую легкость.
Сколько лет Карлсону?
В пьесе Арбузова «Сказки, сказки Старого Арбата» герой, немолодой кукольных дел мастер Балясников, приглашал персонажей и зрителей на прогулку по Москве — «Вперед, я покажу Вам места, где я был счастлив когда-то». Логичней было бы воскликнуть «Назад!», имея в виду ушедшее время.
Спектакль театра Сатиры «Малыш и Карлсон» живет в репертуаре уже не один десяток лет. А точнее, почти сорок. Все смотрят его дважды — в детском возрасте и уже взрослыми людьми, приводя в театр своих детей. Поэтому спектакль все время существует в двойной перспективе, его действие и смысл преломляется одновременно в детском и взрослом восприятии одного и того же человека. Этот человек присутствует не только на сегодняшнем спектакле, но и - невольно — на спектакле своих собственных воспоминаний.
Есть вещи, переживающие время, вещи из других времен, вещи из детства. Например, «Пампуш на Твербуле», многоярусный торт ресторана «Прага» и «Малыш и Карлсон» в театре Сатиры. (Кстати, по какому загадочному закону «Карлсон» идет, а «Пеппидлинныйчулок» давно снят с репертуара?) Десятки лет открывается занавес, десятки лет большой и малый поворотные круги вращают декорации, и проплывают мимо зрителей островерхие крыши Стокгольма, четыре фантастические фарсовые старухи, грабители Филе и Руле, фрекен Бок с плюшками, и младший из Свантесенов — Малыш — все так же рисует мелом для девочки Астрид портрет «домомучительницы». И Карлсон приоткрывает занавеску и дарит колокольчик всем, кому одиноко и грустно.
Еще два года назад на сцену в роли Карлсона выходил Спартак Мишулин. Он был все тем же Карлсоном, казалось, что снова ребенком смотришь с восторгом на сцену — но, различая сквозь мутную толщу времени спектакль детства, вдруг становилось ясно, что никогда этот спектакль не был спектаклем про Малыша. Он был спектаклем про одинокого чудака, который живет на крыше. Не Малыш находил в Карлсоне друга, а Карлсон находил в Малыше понимание и сочувствие. Расхожий сюжет об одиноком в большей семье мальчике выветрился и выцвел, время проявило другую историю — о трогательном старике с пропеллером, у которого нет ни единой родной души, а есть только его собственная, отчасти по-стариковски придуманная, жизнь.
Часто Карлсон воспринимается, как большой ребенок. Нынешний Карлсон Сергей Чурбаков играет мальчишку лет десяти — озорного, шкодливого, врунишку и хвастуна. Его взаимоотношения с Малышом напоминают скорее отношения Гекельбери Финна и Тома Сойера — бродяги и домашнего мальчика. Этот Карлсон по-мальчишески грубоват, задирист и труслив. Он появляется в окне по-свойски, он ломает паровую машину, он врет про сто тысяч паровых машин и сбегает просто-напросто из трусости. Кажется, что он просто использует Малыша для собственного развлечения, привлекая его к своим проделкам, но не ища его любви. Он - ленивый и немного беспардонный хулиган, поселившийся в чинном доме. Карлсон-Чурбакова имел бы безусловное право на существование, если бы ему хоть немного был бы нужен Малыш, уют его дома и теплота его семьи. Но он - чужой, он - посторонний, он - случайный человек, по-хозяйски влезающий в окно. И встречи с родными Малыша для него нежелательна. Он уходит, потому что избегает их. Он внутренне самодостаточен, как убежденный беспризорник. Ему может не хватать игрушек, но эта жизнь ему не нужна.
За Карлсоном Спартака Мишулина стояло прежде всего очень долгое одиночество, и он прятался от родителей Малыша, потому что очень хотел познакомиться с ними. И понравиться им. Каждым словом, каждым жестом Карлсон-Мишулин хотел всем понравиться, и боялся быть не понятым. Вопрос о щенке был столь существенен для него, потому что он сам был бездомной собакой, заглядывающей в глаза потенциальному хозяину. За его хулиганствами — будь то кража плюшек у Фрекен Бок, насмешки над Бетан или разбрасывание мусора по квартире — стояло не просто желание набедокурить, а прежде всего трогательное, отчаянное желание «быть своим». Угодить своей веселостью, своей готовностью к игре, тем, что у него сто тысяч паровых машин «там, наверху» и тем, что у него куча картин с петухами. И это по-стариковски детское хвастовство-заискивание было тем более щемящим, чем старше становился со временем Карлсон Спартака Мишулина.
Карлсону Мишулина очень нужно было быть очень нужным. Малыш чувствовал себя одиноким так, как может чувствовать свою покинутость мальчик — горько, но не обреченно. Карлсон Мишулина был по-стариковски одинок. Эта мелкая, шаркающая походка мужчины «в самом расцвете сил», согнувшегося и глядящего себе под ноги — походка старика, эта манера говорить, не глядя на собеседника, осторожные прыжки со вскинутыми руками — стариковская манера. Пожилой чудак с рыжими волосами, погруженный в свою жизнь и не поднимающий глаз из-за боязни встретить непонимание и насмешку. Одна из самых смешных реприз Карлсона-Мишулина про мусорное ведро строилась именно на интонации стариковского брюзжания и легкой возрастной снисходительности по отношению к Малышу.
Эта разница в возрасте между Малышом и Карлсоном всегда наполняла спектакль Маргариты Микаэлян смыслом большим, чем можно было бы предположить в узко-детском спектакле. Смыслом, который рождается, пока зритель, приходящий с театр в возрасте Малыша, не достигает возраста Карлсона. Тот Карлсон, которого уже нет с нами, был соткан из тончайших нитей счастья и несчастья, будничного одиночества, неприкаянности, фантазий, он был сделан из проживаемой и прожитой жизни.
Спектакля «Пеппидлынныйчулок» давно нет в репертуаре театра Сатиры — Пеппи, как и Питер Пэн — всегда остается в детстве. Пеппи не растет. В «Карлсона», наоборот, укладывается вся жизнь. Артиста, зрителей и спектакля. И сегодня, когда новые Карлсоны раздают в финале колокольчики, в которые нужно звонить, когда грустно и одиноко, и актеры на сцене звонят, звонят под аплодисменты зала, становится ясно, что звонят они, тому самому Карлсону, который улетел и уже не вернется.
Винни-пух
Времена уходят, становясь легкими, как воздушные шары. В сравнительно недавнем спектакле Юрия Погребничко «Предпоследний концерт Алисы в стране чудес» Алексей Левинский, игравший Алису, мучительно умолял освободить его из замкнутого мира окруживших его странных персонажей. Он умолял отпустить из этого неподвижного, как стоячая вода, времени, и в этой просьбе слышалась попытка самого режиссера освободиться от мира, который он сам создал в театре ОКОЛО.
И время отпускает. Отпускает убожество алюминиевых поддонов, заменявших колдовское озеро в «Чайке», отпускает очарование иллюзорной свободы блатных песен, отпускает звук перестукивающих колес проносящихся неведомо куда поездов — тоска вампиловского предместья. Сегодня спектакли Юрия Погребничко кажутся связкой шаров, выпущенных в небо, и даже само название театра теряет слова, как сбрасывают балласт, превращаясь из тяжеловесного «Около дома Станиславского» в лаконичное «ОКОЛО».
Спектакль «Вчера наступило внезапно», поставленный почти двадцать лет назад, сегодня кажется свободным платьем на похудевшем человеке. Прошедшие два десятка лет выветрили скорбную тяжесть содержания, столь существенного для конца восьмидесятых, оставив легкую прозрачную форму и ироничную клоунаду. Уже не разглядеть символа в череде портретов битлов и Брежнева — только намек, да и сценография, придуманная когда-то Юрием Кононенко, — вывернутый наизнанку нищенский быт — вдруг приобрела вполне винтажные формы.
«Винни-пух» был всегда наименее ироничным из спектаклей Погребничко, наименее лиричным, абсолютно безвыходным. Одним из немногих, где режиссер сам появлялся на площадке в скособоченной ушанке. На исходе советского времени герои детской сказки оказывались заключенными в узкое пространство между голой кирпичной стеной и железным забором, словно в место лишения свободы, где надсмотрщиком был Кристофер Робин, отчасти alter ego самого Юрия Погребничко. Безмолвное время запирало своих обитателей на щеколду, режиссер вторил ему, превращая детскую сказку про мягкие игрушки в зону со всей ее нищетой. Эта нищета не была показной — она была внутренней. Его тогдашние персонажи делали неловкие попытки выйти, но натыкались на запрет, сидя на рельсах, они глазами провожали проносящиеся мимо поезда, и Пятачок со слезами на глазах произносил «На горе Ли дождь и туман,/В реке Че прибывает вода,/Вдали от них я изнывал от тоски…» Слова и жесты повторялись, создавая замкнутый круг ничего не значащей и никуда не ведущей жизни.
Спустя двадцать лет герои «Винни-пуха» вышли на свободу. Все та же кирпичная стена, и рельсы, и Кристофер Робин в ватнике и ушанке, но только и персонажи, и зрители уже не чувствуют себя заключенными. Тяжесть улетучилась — осталось чувство неприкаянной свободы, и Пятачок насмешливо и недоуменно продолжает — «…Я пошел туда, и вернулся оттуда —/Ничего особенного…». Герои сидят на рельсах, с любопытством провожая глазами мчащиеся поезда, дают друг другу пинки и не обращают внимания на сумеречного Кристофера Робина. И если в давнем спектакле история с домиком Иа, который Пух с Пятачком перенесли на другое место, разыгрывалась как настоящая драма потери убогого жилища, то нынче это просто шутка, больше похожая на цирковую репризу.
Изменился и сам Винни-пух — из персонажа спектакля он трансформировался в наблюдателя. В того самого насмешливого и остраненного наблюдателя, в роли которого всегда выступал сам Юрий Погребничко. Теперь не Кристофер Робин, а Винни Юрия Кантомирова играет с персонажами спектакля. Он придумывает шутку или розыгрыш и с озорством ждет, что из этого выйдет, персонажи для него — смешная стайка детей, которые всерьез принимают правила придуманной им забавы. Он будто взрослый, попавший в ребячливый круг. За двадцать лет Винни-пух вырос и стал большим (не перестав при этом быть Винни-пухом"), он вырос из этого спектакля, как Алиса когда-то выросла из сказки. Но Винни-пух, в отличие от погребничковской Алисы не просится домой — его дом здесь. Здесь — среди пятачков и кроликов, среди драповых пальто, железных кружек и драных ушанок. Мучительный сюжет, на который Погребничко несколько лет назад нанизывал «Алису», проступил сегодня в «Винни-пухе» без тени грусти и боли. И выросший Винни, и режиссер сегодня с улыбкой принимают свой мир, как дом, и на это примирение понадобилось время.
Пространство спектакля расширилось, опустело, перестало быть плотным, время стало текучим, полным ничего не значащего безделья, повторяющихся фраз и реприз. Они множатся уже не от обреченности, а от пьянящего ощущения пустого пространства, которое нечем заполнить, кроме как повторениями.
Герои снова и снова начинают тот или иной милновский сюжет, как бы вспоминая, для чего они здесь находятся, и бросают его на полпути. Охота на Слонопотама, домик Иа, вопрос о том, чем занимается Кристофер Робин — эти истории просто коротают время. Так в чеховской «Чайке» говорили «Давайте играть в лото» и просто играли, зная все наперед. Двадцать лет герои «Винни-пуха» убивали нищенское время — мучительно, сквозь слезы, и они убили его. Теперь они свободны.
Сколько времени прошло?
Чуть больше тридцати лет назад на Пушкинской площади снесли двух- или трехэтажный дом. На его месте разбили сквер напротив Пампуша. Посадили маленькие саженцы. Сегодня, пробегая мимо, достаточно оглянуться, чтобы увидеть, что они выросли, стали большими деревьями, и поразиться тому, сколько времени прошло за этот миг.
Это время измеряется не количеством весен, и не тем, сколько раз расцвели и увяли цветы — оно измеряется высотой деревьев. Так в старых спектаклях живут сюжеты времени — прошлого и настоящего, которые мы читаем, как читают годовые кольца многолетних деревьев.
Ольга Богомолова, 1.12.2009
- «Оккупация — милое дело»: про «совок» с любовью, Наталья Витвицкая, Ваш Досуг, [10.10.2011]
- «Оккупация» — неясный, но интригующий спектакль., Джон Фридман, The Moscow Times, [6.10.2011]
- Юрий Погребничко: «Театр будет всегда», Наталья Витвицкая, «Ваш Досуг», [4.10.2011]
- Оккупация — милое дело!, Ольга Галахова, РИА Новости, [3.10.2011]
- Красный кандибобер Феллини, Анастасия Томская, afisha.mail.ru, [3.10.2011]
- Месть Театра — беседа с Юрием Погребничко, Нина Чугунова, [1.10.2011]
- Диагноз: Капитанская дочка, Елена Дьякова, Новая газета, [30.09.2011]
- Новая старая пьеса, Елена Ковальская, «Афиша», [27.09.2011]
- Под стук колес, Дина Годер, Московские новости, [22.09.2011]
- Юрий Погребничко: «Гурджиев и МХТ, в сущности, делали одно дело», Марина Давыдова, журнал «Театр», [1.08.2011]
- Около мэрии и дома Станиславского, Ирина Шведова, Московская правда, [1.07.2011]
- Сторож, Наталья Витвицкая, «Ваш Досуг», [30.06.2011]
- Эпоха протеста, Наталья Витвицкая, «Ваш Досуг», [10.06.2011]
- Где ты, облако-рай…, Марина Гаевская, Культура, [3.02.2011]
- Три мушкетера, Надя Плунгян, [16.05.2010]
- Лестничная клетка, Надя Плунгян, [15.05.2010]
- Любимая игра, Александр Минкин, [12.01.2010]
- Юрий Погребничко: «Гурджиев и МХТ, в сущности, делали одно дело», Марина Давыдова, Журнал «ТЕАТР», [2010]
- Двадцать лет спустя, или двор жизни, Марина Копылова, Страстной бульвар, 10, [2010]
- Древо спектаклей, Ольга Богомолова, «Экран и сцена», [1.12.2009]